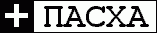
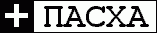
Место Священного Писания в жизни благочестивого иудея в эпоху ранней Церкви
Анна Ильинична Шмаина-Великанова
Читая в первый раз Евангелие, мы бываем поражены количеством цитат из Ветхого Завета, встречающихся как в ткани повествования, так и в притчах и прямых речениях Спасителя. Вообще, беседа между персонажами этого текста строится на цитатах из Священного Писания, намеках: один говорит, подразумевая некую цитату, другой отвечает, тут же понимая, какую цитату он имеет в виду («Какая заповедь наибольшая в Законе?»). Естественно задать себе вопрос: диктуется ли это задачей повествования или в какой-то мере отражает реалии той жизни, того периода в истории, когда этот текст складывался. Именно об этом мне хочется сказать несколько слов – о том, в какой мере Писание пронизывало жизнь иудея той эпохи.
Тосефта Киддушин (это очень важное для понимания жизни еврейской общины место в Талмуде) гласит: «Что обязан сделать отец для сына? Он обязан сделать ему обрезание, обучить Торе, дать ремесло и женить». Это правило записано, разумеется, не ранее III в., но, скорее всего, традиция, в нем отраженная, сложилась до начала н.э. Обязанность в данном случае, означает, что сын может обратиться, например, к членам Синедриона и сказать: «Он не обучил меня Священному Писанию, он не сделал ничего для этого», – и тогда отец должен будет исправить это положение.
Талмудическая традиция сохранила для нас дебаты мудрецов о том, начиная с какого возраста надо начинать учить ребенка Закону. Об этом рассказывается в трактате Вавилонского Талмуда Бава Батра. Судя по этому рассказу, система обучения Торе складывалась постепенно. Первоначально ребенка обучал отец в том возрасте, когда он считал это нужным. Если у него не было отца, или отец этого не делал, он не знал Писания. Затем (по-видимому, в ранний хасмонейский период, ок. 120 г. до РХ) возникли школы в Иерусалиме для обучения святому языку и Торе. Но привести туда сына должны были родители, и если они не могли этого сделать, то дети не учились. Поэтому мудрецы постановили, что такие школы должны быть в каждой области, но и туда доставить маленьких детей было трудно. Часто мальчики приходили учиться лет в шестнадцать, и законоучители сочли, что это поздно. «Пришел Иегошуа бен Гамла (это очень существенно для нас, потому что он был первосвященником между 35 и 70 годами I века) и постановил: в каждом городе и городке, в каждом селе и деревне должны приводить мальчиков, достигших 6-летнего возраста, и обучать их, и обучать бесплатно». Был введен специальный налог, который распределялся по всем общинам таким образом, что каждый человек мог учить своего ребенка бесплатно, а община – нанимать учителя. Необходимо заметить, что эта радикальная реформа (в трактате Кетубот Иерусалимского Талмуда она приписывается не Иегошуа бен Гамле, а мудрецу Шимону бен Шетаху, жившему в первой половине I в. до РХ) приближает систему обучения Торе в Израиле к современным представлениям о всеобщем обязательном и бесплатном образовании. Но это не означает, что традиция семейного обучения чтению Священного Писания заглохла в иудаизме. Такое обучение соседствовало со школьным. «Начал сын разговаривать, – говорится в трактате »Хагига«, глава 1 лист 2, – отец учит его »Шма…« (т.е. основной молитве, символу веры, »Слушай, Израиль…«), Торе и святому языку (ивриту)». Одновременно с первыми словами: те прибаутки, сказки, песни, которые отец сказывает сыну, когда он только начал разговаривать, уже должны включать обучение Торе. Мудрецы стремились привить народу веру в то, что обучение ребенка Торе должно быть высшей ценностью для родителей. Как сказано в трактате Шаббат: «Мир существует лишь благодаря дыханию детей, изучающих Тору». На фоне такого пристального внимания к изучению Священного Писания складывается христианская традиция.
Как обучались? О практическом обучении мы знаем довольно мало. Читали вслух, вся методика была основана на запоминании наизусть, и, в конце концов, человек должен был знать Писание, как теперь бы сказали, как сверхреферентный текст, т.е. не только наизусть весь текст, но наизусть со всеми традиционными ассоциациями, с толкованиями на толкование. Беседовали два мудреца, и один говорит: «Если бы – сохрани нас от этого Господь – Тора исчезла из мира, я мог бы всю ее (в данном случае имеется в виду не только все Пятикнижие, а все, что в этот момент составляло канон) сам воссоздать до последнего слова». Другой говорит: «Не хвались этим, потому что это должен уметь каждый ученик. Но мог ли бы ты, если бы мы все померли, все, что уже накоплено в устной традиции, повторить и воссоздать один?» Т.е. каждый из мудрецов, изучающих Священное Писание, должен был знать все, что сделали все остальные, и до него, и в его время. И все, что происходило в жизни человека, в быту, должно было соотноситься со Священным Писанием. Никакое событие в жизни человека не рассматривалось как автономное от Священного Писания, не имеющее к нему отношения.
Священное Писание по размеру больше, чем сотворенный мир. Не может быть ничего в нашей жизни, что не было бы связано со Священным Писанием, потому что оно больше, оно включает и все события, и еще многое другое. Поэтому во многих трактатах Талмуда и мидрашах неоднократно говорится о том, что изучение Торы – не средство, а цель. «Не Тора сотворена для мира, а мир для Торы», – есть и такие крайние высказывания. Хотя в каком-то смысле может показаться, что вся устная традиция как практическую задачу ставила себе приведение Торы в соответствие с жизнью. Допустим, как заповедь о том, что следует оставить край поля для нищего, чтобы он мог подбирать колоски, может исполнить сапожник, живущий в городе? Но в действительности, можно сказать, что задача была не в том, чтобы приспособить Священное Писание к жизни, но в том, чтобы жизнь приспособить к Священному Писанию. Это, собственно, и есть форма жизни благочестивого иудея – приведение себя в вид, приспособленный к Торе.
Если мы под этим углом зрения посмотрим на некоторые отрывки из Евангелий, то заметим, что описанная в них реальность вполне укладывается по стилю обращения с Писанием в рамки нашего представления о месте Торы в жизни благочестивого иудея той эпохи. Я хотела бы привести один пример того, как разрешается какой-нибудь вопрос в Талмуде и как он разрешается в Евангелии. Все мы помним, конечно, как в Евангелии от Луки законник спрашивает: «Кто мой ближний?» – и Спаситель отвечает не перечислением списка ближних и не ближних, а рассказывает странную историю – притчу о милосердном самарянине. Т.е. в ответ на конкретный, практический вопрос о том, как исполнять некую заповедь в Законе, следует художественный рассказ, создающий ситуацию. Сопоставим с этим беседу в трактате Санхедрин о том, как понимать стих из Псалма (Пс.10:3 по еврейскому тексту): «Корыстолюбец, благословляя, кощунствует».
Рабби Элиезер бен Яаков спрашивает, как понимать слова «корыстолюбец, благословляя, кощунствует». Т.е. вопрос задается тоже конкретный и по поводу текста, и сохраняется такая же, как в приведенном отрывке из Евангелия, живая беседа. Рабби Элиезер бен р. Йосе Глили пробует ответить теоретически: «Может быть, под корыстолюбцем следует понимать человека, который в душе алчет каких-то материальных благ, а при этом благословляет, для чего должно быть совсем другое душевное настроение...». Но мудрецов не удовлетворяет этот ответ. Они говорят: «Придумаем притчу, чему это подобно…». И дальше возникает целое маленькое художественное произведение. Человек украл у соседа мешок муки. Он испек субботний хлеб, халу. Он дал детям этот хлеб и произносит благословение. Когда он благословляет, он кощунствует. Он кощунствует не тем, что украл мешок муки. Это грех, но по-человечески понятно. Он кощунствует не тем, что он испек халу: дети не виноваты в том, что он вор, – они должны питаться и праздновать субботу. Он кощунствует в тот момент, когда произносит установленное благословение над ворованным – над ворованной мукой. Ешь, но ешь с сокрушением. Надо оговорить, что этот вывод сделан мной – в трактате Санхедрин нет никакого этического поучения, там только рассказана притча. Этот случай, конечно, достаточно крайний, но никак не единичный. Скорее, это правило: задается вопрос, и ответом на него является притча с неочевидным, но подразумевающимся выводом.
Я думаю, что из этого (можно привести множество примеров) видно, что подобно тому, как вся умственная и словесная ткань новозаветных текстов пронизана ассоциациями, образами Священного Писания, так же она должна была пронизывать жизнь каждого человека той эпохи. Конечно, когда мудрецы Израиля говорили «каждый», они подразумевали только учеников мудрецов, подобно старой графине, которая требовала, чтобы Лиза была одета как все, т.е. как очень немногие. В действительности большинство людей (крестьян, ремесленников, воинов) ничего не знали, но в поле зрения культурной традиции они почти не попадали. Если же речь идет о той культурной традиции, которая отражена в Талмуде и мидрашах, то она была полностью насыщена Священным Писанием.